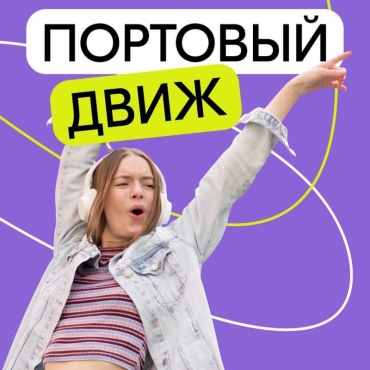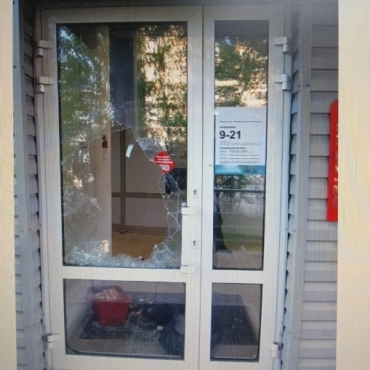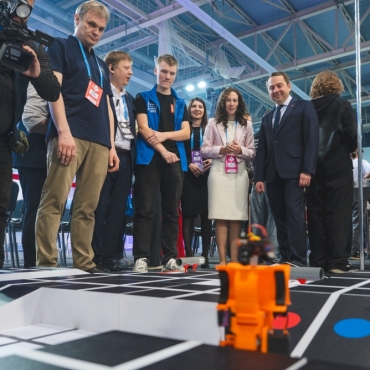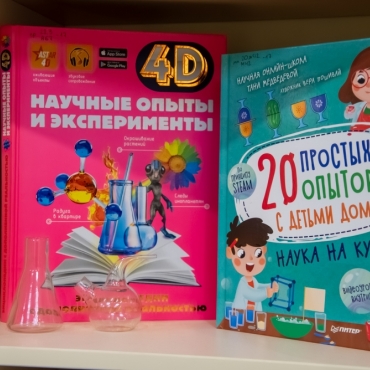В прошлом номере пятничной «Вечерки» мы рассказали о начале нелегального лова трески и боя морского зверя норвежскими промышленниками в территориальных водах Российской империи, в том числе на мурманском побережье и в Белом море. Сегодня продолжим знакомить читателей с этой малоизвестной страницей истории нашей страны.
Наказать или нет?
Наш рассказ был бы необъективным без описания официальной позиции Норвегии в данной ситуации. В момент возникновения трескового конфликта с Россией, то есть в 1868 году, Норвегия была частью Объединенного королевства Швеции и Норвегии. Она имела широкую автономию во внутренних делах, но проводить свою внешнюю политику не могла. Не стоит думать, что под прикрытием королевской власти норвежцы поощряли своих браконьеров в российских водах. Обострение отношений с огромной Российской империей относительно небольшому королевству было не нужно.
Но именно Норвегия в тот момент очень зависела от рыболовства и морского промысла. Для тысяч семей бедной природными ресурсами страны это был единственный способ прокормиться. Как указывает историк Руслан Давыдов, сохранились документы, подтверждающие, что власти Объединенного королевства Швеции и Норвегии предупреждали соотечественников о недопустимости ведения промыслов вблизи русских побережий (главным образом вблизи Мурмана), а канцелярия архангельского губернатора потом сообщала об этом российским промышленникам. Но, судя по всему, никакого наказания браконьеры не несли. Понять почему, не сложно. Во-первых, законов Объединенного королевства нелегальные рыболовы не нарушали. Во-вторых, жесткие меры могли бы привести если не к социальному взрыву, то к беспорядкам точно. И такие случаи были. В 1903 году норвежские тресколовы разгромили и сожгли фабрику по переработке добытых китов. Тогда считалось, что киты, питаясь, как и треска, мойвой и мелкой сельдью, подгоняют мойвенные стада к берегу и тем самым заставляют рыбу держаться близ берега. Следовательно, нет китов – нет трески. В общем, МВД Объединенного королевства оказалось в сложной ситуации. Поэтому оно больше предупреждало и грозило, но никого не наказывало.
Враг номер один
В 1905 году уния между Швецией и Норвегией распалась, и последняя стала самостоятельным государством. Вот тут и произошел взрыв национализма и эскпансионизма. Пользуясь тем, что в предыдущие годы норвежцы без особых препятствий со стороны российских властей занимались рыбными промыслами, наши соседи начали обживать Новую Землю. Естественно, без спроса. А в 1910 году союз шкиперов Тромсе единогласно принял резолюцию, в которой говорилось, что Новая Земля севернее Маточкина Шара является ничейной, открытой для всех территорией.
Этого царское правительство России стерпеть уже не могло. Норвежский МИД получил ноту протеста, необычно резкую и ироничную по форме. Русское правительство уверяло, что оно ни в коем случае не собирается опровергать фантастическое утверждение шкиперов Тромсе о том, что Новая Земля является ничейной. Но просило принять во внимание и возможные последствия, которые могут возникнуть (конфискация улова, снаряжения и так далее), если промышленники и впредь будут придерживаться этой теории. Можем, когда хотим!
Примерно в это же время в Норвегии возникает псевдонаучная теория о вреде тюленей. Якобы они пожирают в огромных количествах треску, а потому подлежат полному уничтожению. Отсюда делался вывод о благом деле, которое делают норвежские зверобои, избавляя море от ластоногих. Поддержанная некоторыми учеными мужами теория быстро овладела умами большинства норвежцев. И, поскольку лов трески был одной из основных статей национального дохода Норвегии, тюлень там превратился в национального врага номер один.
Жесткий советский ответ
В годы Первой мировой войны Норвегия активнейшим образом занималась морскими грузоперевозками и развитием добычи полезных ископаемых, поэтому работа в стране была, и социальная острота несколько спала. Ситуация резко изменилась после окончания Первой мировой. Теперь уже в советские территориальные воды снова хлынули браконьеры. Причем не только норвежские. Тюлени истреблялись тысячами, в том числе детеныши и самки. В ответ на это 4 мая 1920 года советское правительство объявило, что оно рассматривает «в качестве русских территориальных вод на севере России зону в три морские мили, считая от точек и островов, наиболее удаленных от береговой линии отлива. Что касается Белого моря, то, поскольку последнее является внутренним русским морем, вышеуказанная трехмильная зона отсчитывается от линии, проведенной от мыса Святой до мыса Канин».
Таким образом, Белое море оказалось юридически закрытым для иностранных рыболовов. Но фактически прекратить норвежское браконьерство РСФСР пока не в состоянии. Однако уже в апреле 1921 года, когда северные соседи вновь попытались вести здесь промысел, советским пограничным катером были задержаны и доставлены в Архангельск норвежские шхуны «Поларгуттен», «Ремей» и «Кап Флора». Суда и имущество, правда, конфискованы не были, но шкиперы предстали перед ревтрибуналом и получили реальные тюремные сроки.
Норвежский МИД еще не успел прийти в себя от такого сурового решения, как получил второй удар. 24 мая 1921 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море», которым установил 12-мильную национальную зону рыболовства, закрыв норвежским рыбакам доступ в лучшие промысловые районы. Норвегия не признала 12-мильную зону, поскольку такая отдаленность от берегов шла в разрез с международным правом и традицией.
Миссия «Хеймдаля»
Летом 1922 года Норвегия отправила к берегам Новой Земли корабль охраны рыболовства «Хеймдаль», задачей которого было препятствовать задержанию норвежских судов, ведущих забой тюленей в этом районе. В русскоязычном сегменте Интернета «Хеймдаль» называют броненосцем, вооруженным 210-миллиметровыми орудиями. А вот Большой военный справочник «Все корабли Второй мировой» дает другие данные корабля с таким названием. Его водоизмещение было всего 578 тонн, а длина – 55 метров, что явно маловато для броненосца. На вооружении «Хеймдаля» в 1921 году имелось четыре 76-миллиметровых и два 37-миллиметровых орудия. Построен корабль был в 1892 году как канонерская лодка, но затем переведен в класс кораблей охраны рыболовства.
В англоязычной Википедии указывается, что «Хеймдаль» помимо прочего несколько раз использовался в качестве королевской яхты. После захвата Норвегии Германией в 1940 году корабль ушел в Англию, где через три года и был выведен из эксплуатации. Но отправиться на металлолом ему было не суждено. Простояв у стенки до 1946 года, он был переименован в «Ровену» и под эти названием затонул 18 августа 1947 года в 80 милях от Исландии.
Но вернемся в 1922 год. В солидном научном издании «Советско-норвежские отношения. 1917–1955» нет никаких данных о том, что «Хеймдаль» огнем своих орудий разгонял советские пограничные суда. А вот инструкция, выданная норвежскими властями командиру корабля, имеется. Из нее видно, что «Хеймдалю» ни в коем случае не следовало применять силовые методы против русских правительственных кораблей. «Если задержание в указанном районе предотвратить будет невозможно, следует заявить протест капитану судна, осуществившего задержание, и точно определить место задержания судна». Так что присутствие «Хеймдаля» в районе Новой Земли было для норвежских браконьеров скорее моральной, чем силовой поддержкой.
В начале 1923 года перед наступлением зверобойного сезона норвежские зверопромышленники созрели для того, чтобы заплатить за легализацию своего промысла во избежание осложнений с советскими властями. Первыми концессионный договор заключил «Торговый дом Винге». Однако в Норвегии, видимо, посчитали это недостаточным, и весной 1923 года снова отправили «Хеймдаль» в «восточные льды». На этот раз от советского правительства последовала нота протеста. В ответном послании министр иностранных дел Норвегии Мишле указал, что присутствие «Хеймдаля» в этих водах отнюдь не увеличивает опасность возникновения поводов для споров и что, напротив, оно должно способствовать уменьшению этой опасности и предупреждению конфликтов, которые легко могли бы возникнуть в противном случае.
Складывается впечатление, что «Хеймдаль» не столько защищал соотечественников от советских пограничников, сколько следил, чтобы его земляки не наделали глупостей. Полпред СССР в Норвегии Александра Коллонтай в отчетной телеграмме отметила, что ответ норвежцев носит миролюбивый характер. Необходимы были переговоры, поскольку обеим сторонам ситуация полувойны уже надоела, а настоящей войны никто ни хотел.
С оглядкой на «старших товарищей»
Собственно, переговоры РСФСР с Норвегией долго и трудно шли еще с 1920 года. Советская сторона из-за нехватки возможностей могла лишь декларировать свои требования. Но и у Норвегии ситуация была непростая. Крайне заинтересованная в российском рынке для сбыта своей рыбопродукции (до Первой мировой войны главными потребителями норвежской трески были Испания и Португалия, но после окончания военных действий потомки викингов эти рынки потеряли), а также в нормальной работе своих зверобоев, Норвегия постоянно оглядывалась на великие державы, которые помогли ей получить в собственность Шпицберген. Но Англия с Францией проводили линию политической и экономической блокады советского государства, подталкивая к этому остальных. И норвежцы не решались сделать что-то, что может не понравиться «старшим товарищам». Только после того, как Англия заключила в 1921 году торговое соглашение с РСФСР, для Норвегии стало возможным сделать шаг навстречу России. 2 сентября 1921 года между нашими странами было заключено временное торговое соглашение.
Не будем описывать все сложности дальнейших переговоров, скажем лишь, что они то прекращались, то возобновлялись и завершились только 15 декабря 1925 года подписанием полноценного договора о торговле и мореплавании. Но еще в 1923 году был заключен ряд концессионных соглашений, как напрямую с частными лицами, так и при посредничестве норвежского государства. Таким образом, был частично положен конец бесконтрольному промыслу норвежцев в советских территориальных водах.
Долгожитель
Самым крупным концессионером был Олезундский союз – объединение норвежских зверопромышленников. Об этой концессии стоит рассказать хотя бы потому, что она стала долгожителем, просуществовав фактически до 1939 года, хотя эпоха концессий в СССР закончилась в конце 20-х годов.
18 декабря 1923 года проект договора был утвержден Совнаркомом, а на следующий день подписан заинтересованными сторонами и с пролонгациями действовал до 1939 года. Олезундский союз получил право на ведение зверобойного промысла по всему побережью континента и островов от границы с Финляндией до западного берега Новой Земли (включая мыс Желания), а также в горле Белого моря, за исключением водного пространства к югу от линии Орловский маяк – мыс Канушин. Общий тоннаж судов концессионера не должен был превышать четырех тысяч регистровых тонн.
Плата за концессию (долевое отчисление) не зависела от валовой добычи предприятия. Норвежцы могли вести промысел, уплачивая по 10 американских долларов с каждой регистровой тонны участвовавших в охоте судов. Таким образом, плата должна была варьироваться в пределах 40 тысяч долларов. При этом прибыль добытчиков доходила до одного миллиона.
С самого начала своего существования эта советско-норвежская сделка подвергалась критике, в первую очередь со стороны СССР. Указывалось, что, во-первых, плата за концессию чрезвычайно низкая. Во-вторых, норвежцы ведут хищнический бой тюленей, что ведет к оскудению стада. В-третьих, СССР сам занимался боем тюленей, и норвежцы становились его прямыми конкурентами. Однако все попытки закрыть концессию наталкивались на активное сопротивление Народного комиссариата иностранных дел. СССР необходим был этот договор, в первую очередь по политическим соображениям, как необходимое условие добрососедских отношений с Норвегией.
Попытки контролировать бой тюленей были. На одном из судов концессии постоянно находился советский представитель. Было организовано авианаблюдение – как за зверобоями, так и за состоянием тюленей. В Москве заседала паритетная комиссия, которая рассматривала различные варианты работы концессионеров.
С 1923 по 1928 год норвежцами было добыто один миллион 463 тысячи голов морского зверя. Еще 780 тысяч голов приходится на долю зверобоев СССР. Олезундская компания продолжала промысел в советских водах еще несколько предвоенных лет. Однако 12 сентября 1939 года специальной нотой норвежская миссия в Москве была поставлена в известность, что «в силу условий международной обстановки и необходимости обеспечить границы СССР установлена запретная юна в горле Белого моря». На этом история, начавшаяся в 1868 году, закончилась.
Андрей КИРОШКО.
Фото из открытых Интернет-источников.