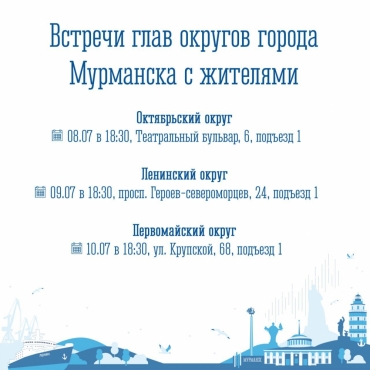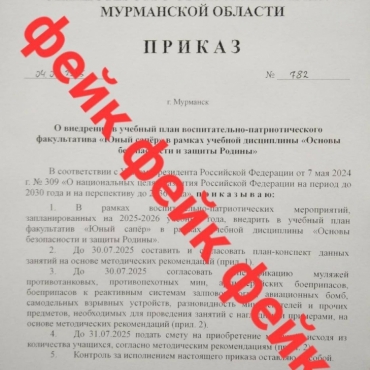В мае «Вечерка» опубликовала статью, посвященную первым годам работы органов госбезопасности в Мурманске. В основном там речь шла о деятельности ЧК, созданной в нашем городе в феврале 1920 года. Но в годы революции, Гражданской войны и интервенции чекистам противостояли как белогвардейские, так и иностранные спецслужбы. Сегодня мы расскажем о событиях той эпохи, чтобы увидеть, как на Севере пересеклись интересы разведок всех великих держав того времени. Помогут нам в этом работы историков Андрея Иванова, Александра Кубасова и Юлия Галкина.
От любви до ненависти
В первую очередь коснемся истории контрразведки. К моменту Февральской революции 1917 года контрразведывательные органы существовали в Российской империи всего 14 лет. Формирование их началось лишь в 1903 году, и главной причиной этого шага стал грандиозный скандал в Варшавском военном округе, где разоблачили одного из высших штабных офицеров, работавших на другую державу. Он получил 12 лет каторжных работ, был лишен всех наград, званий и дворянства.
В ту пору у российской контрразведки имидж был вполне положительный. Ей стремились помогать все слои общества. Во многом это было связано с тем, что среди ведомств Российской империи контрразведка была абсолютно новой структурой, никак не связанной с деятельностью жандармского корпуса. Кроме того, политический сыск не входил в круг задач контрразведчиков. Можно сказать, что время с 1903-го до начала Первой мировой войны было самым чистым периодом в истории этой спецслужбы. Оберегать государство от шпионов всех мастей – главная и единственная задача контрразведчиков того времени.
Но эта идиллия длилась недолго. Стоило контрразведчикам начать задержания в интеллигентской среде, как на них тут же посыпались обвинения в политической мотивированности. А даль-ше уже и сама контрразведка стала принимать участие в мероприятиях жандармского корпуса. К началу 1917 года от положительного образа борцов со шпионажем не осталось и следа.
Ловля воров и убийц
Отечественные спецслужбы в Заполярье были представлены Мурманским особым морским контрразведывательным пунктом, основанным в январе 1917 года. Как указывают исследователи, контрразведчикам на Мурмане тогда приходилось работать фактически во враждебном окружении. Несмотря на это, служба на протяжении всего 1917 года оставалась одним из немногих уцелевших органов империи. Ее функции постоянно расширялись. Начальник Мурманского пункта признавался, что «чины контрразведки помимо своих обязанностей несут работу еще и при Следственной
Комиссии Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов, борясь с растущей преступностью и обнаруживая воров и убийц».
При этом основу Мурманского пункта составляли сотрудники с многолетним опытом. Так, самый неопытный агент контрразведки в Мурманске к октябрю 1917 года находился на военной службе более
7 лет, а средний срок службы борцов со шпионажем на Крайнем Севере равнялся почти 13 годам. Многие тогда попадали на службу в Мурманск из Беломорского и Петроградского контрразведывательных отделений, и долгое пребывание за Полярным кругом не прошло для них бесследно. Многие были вынуждены покидать службу по болезни. В частности, так поступили наиболее опытные аген-
ты: Н. Н. Николаев (срок военной служ-бы – 19 лет) и П. К. Мартынов (срок военной службы – 14 лет).
Придя к власти в октябре 1917 года, большевики, хотя и снизили финансирование контрразведывательных мероприятий, но все же не отказались от них вовсе. В декабре 1917 года Мурманский контрразведывательный пункт получил 8000 рублей, в следующем месяце – 4035 рублей, а в феврале 1918 года – 4247. Это позволило контрразведчикам вести агентурную слежку за членами шведской дипломатической миссии, заподозренными в шпионаже, проводить расследования пожара в Мурманском порту и так далее. Надо отметить, что в этот период опытные контрразведчики были готовы сотрудничать с новой властью.
Непростое соседство
В январе 1918 года контрразведку на Севере реорганизовали и дали ей новое название. Это было связано с неприятием на местах политики, проводимой большевиками, а потом и фактическим разрывом с центром. Контрразведка стала называться Военно-регистрационным отделением (ВРО) и вошла в состав военного отдела Верховного управления Северной области (ВУСО), наделенного функциями министерства. Возглавил ВРО коллежский асессор М. К. Рындин.
На ВРО возлагались задачи по борьбе с неприятельским шпионажем, а также охрана военных объектов, контроль над перемещением населения и движением морского, речного и железнодорожного транспорта. Положение осложнилось тем, что в Заполярье действовали и спецслужбы наших союзников по Первой мировой войне. Чтобы выстроить оптимальную для русских и иностранцев систему военного управления, было принято решение о разделении службы контрразведки на несколько секций: русскую, британскую, американскую, французскую и бельгийскую. Зарубежные спецслужбы объединялись общим понятием – Союзный военный контроль (СВК).
Среди историков все еще ведутся споры о степени зависимости русской администрации, в том числе и ВРО, от иностранцев. Единого мнения на этот счет нет – одни говорят о полном контроле интервентов, другие с этим не согласны.
Новые люди
Но не подлежит сомнению другой факт – с середины 1918 года ВРО начинает испытывать кадровый голод. Взять грамотных специалистов было неоткуда. Офицерский корпус Северной армии был настроен к такой работе негативно, а местная интеллигенция интересовалась преимущественно культурной и творческой деятельностью. В этой ситуации изначально крайне высокие требования к личному составу контрразведки были снижены настолько, что агентов стали зачислять на службу на основании всего трех качеств: добросовестности, честности и исполнительности.
Будущих агентов контрразведки готовили практически в полевых условиях на вечерних занятиях при Военно-регистрационном отделении. Этого было явно недостаточно для того, чтобы не только обучить сотрудников выполнению технических операций в сфере борьбы со шпионажем, но и помочь им осознать важность такой деятельности для армии и общества. Зачисленные агенты нередко разглашали «полученные по службе сведения» в частных беседах и письмах, «пьянствовали, арестовывали крестьян, избивали, истязали, издевались над арестованными социалистами». Рындин пытался бороться с этими фактами, отстраняя от должности запятнавших себя контрразведчиков, среди которых был и начальник Мурманского пункта капитан Н. В. Дымский, но ситуация существенно не изменилась. Именно факты участия спецслужб в противоправных действиях и безосновательных расстрелах позволили впоследствии говорить о проведении на Севере политики белого террора.
Февральское восстание
Контршпионаж отнюдь не был самым главным видом деятельности для мурманских контрразведчиков времен интервенции. Основные усилия контрразведки тогда были направлены на борьбу с большевистским подпольем, которое представляло серьезную угрозу белогвардейскому режиму. Вот лишь один пример, который непосредственно касается Мурманска.
На рассвете 27 сентября 1919 года последние корабли с войсками союзников покинули Архангельск, а 12 октября – Мурманск. Русская администрация оказалась в одиночестве. Уже в ноябре в городе образовалась крупная революционная группа, ставившая своей задачей подготовку и проведение вооруженного восстания для свержения белогвардейского правительства. Одним из руководителей организации был Иван Александров. Несмотря на все кадровые проблемы, контрразведчикам удалось об этом узнать во многом благодаря болтливости самих заговорщиков. Уже в ноябре были арестованы члены революционной группы В. Д. Грассис, И. Д. Скидер, С. А. Чехонин.
В декабре отделение полевого
военного контроля № 43 арестовало 25 большевистских агитаторов. В их списке напротив каждой фамилии в графе «Примечание» им давалась краткая характеристика, например, «ярый большевик», «убежденный большевик», «очень вредный человек». В том же месяце военный контроль арестовал и отправил в тюрьму 22 «ярых большевика».
Таким образом, можно предположить, что вся подготовка восстания Александрова происходила под контролем контрразведки. Почему в таком случае она не пресекла его? Все дело, как сегодня видится, в том, что арест руководителей восстания вряд ли привел бы к его срыву. Установление Советской власти на Мурмане к тому моменту было лишь вопросом времени, это понимали все. В той ситуации сотрудникам Русской администрации необходимо было позаботиться о собственной безопасности, а репрессии против недовольных этому никак не способствовали. Да и у белой власти в тот момент попросту не было ресурсов, чтобы подавить восстание силой. Мурманские контрразведчики просто предупредили в своем отчете об опасности вооруженного выступления. И все. В результате восставшие легко подавили сопротивление милиции и ополчения, захватив важные объекты в городе. 22 февраля 1920 года стало последним днем в истории белогвардейской контрразведки на Мурмане.
Записал Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.