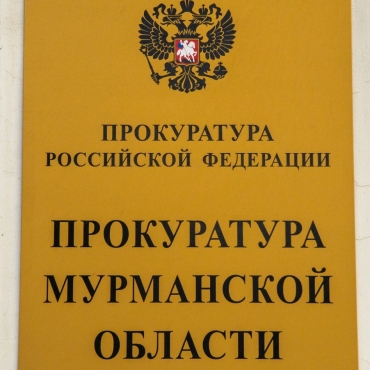Известный писатель, поэт и журналист Алексей Полубота для Мурманска человек не чужой, хотя уже много лет живет в Подмосковье. И дело не только в том, что он родился и долго жил в Мурманске, здесь получил свою первую из ряда литературных премий - областную премию имени Баева - Подстаницкого. Он мурманчанин и по духу, и по тематике многих своих произведений, в которых снова и снова возвращается к Кольскому краю. Одно из них, очерк "Промысел", мы и представляем сегодня на наших страницах (в сокращенном виде).
Известный писатель, поэт и журналист Алексей Полубота для Мурманска человек не чужой, хотя уже много лет живет в Подмосковье. И дело не только в том, что он родился и долго жил в Мурманске, здесь получил свою первую из ряда литературных премий - областную премию имени Баева - Подстаницкого. Он мурманчанин и по духу, и по тематике многих своих произведений, в которых снова и снова возвращается к Кольскому краю. Одно из них, очерк "Промысел", мы и представляем сегодня на наших страницах (в сокращенном виде).
Вне расписаний
Рядом со мной идет по ночному Мурманску давний отцов друг Михаил Александрович. Это он навязал мне свой потертый старый рюкзак вместо моего, современно-щеголеватого, но менее вместительного. "Рыбу складывать некуда будет", - в полушутку сказал он, заставив спешно перекладывать уложенные с вечера вещи.
Да, еще в Москве я догадывался, что особой романтики в нашем походе не будет.
- Для меня рыбалка - это промысел, - обозначил по телефону "формат" нашего предприятия мой старший товарищ.
И все же я согласился пойти с ним. И не только потому, что больше мне в Мурманске идти в зимнюю тундру было не с кем.
Мы подходим к темному, почти безлюдному вокзалу. Его звездный шпиль смутно проступает сквозь сумрак. Огибаем это молчаливо-отрешенное сейчас здание, идем между облупленных вокзальных колонн, выбираемся на мост над железнодорожными путями. С него хорошо видно северную часть города: зияющий чернотой залив, полусогнутые шеи портовых кранов, одинокие суда у причалов, скученные портовые сооружения. За ними - приземистые скобы сталинских домов, а выше, на склоне могучей сопки, панельные шеренги многоэтажек. И над всем этим - бессонный маяк мужества, памятник заполярному Алеше в золотисто-оранжевом сиянии.
- Вот наш транспорт, - говорит Михаил Александрович, - показывая на угольно чернеющий локомотив с единственным прицепным вагоном. Ни одного признака жизни не видно пока в этом замершем на втором пути странном поезде. Еще за месяц до поездки, когда мы по телефону договаривались о рыбалке, Михаил Александрович сказал, что поедем на какой-то электричке, развозящей по глухим полустанкам железнодорожных рабочих. Я, привыкший в последние годы с помощью расписаний в Интернете выверять порой поминутно свои маршруты, долго сомневался. Все искал, нет ли каких иных, более надежных способов добраться до маленькой станции Пулозеро. Однако ничего так и не разузнал и махнул рукой, решив довериться своему спутнику, как доверялся когда-то на рыбалке отцу и как доверяются, наверно, теперь мне мои сыновья.
Морозный исток
- Милые мои, вот вам, вот, - проводница кидает куски хлеба с маслом нетерпеливо приплясывающим у подножки вагона собакам. Пса, с оторванной наполовину лапой, она прикармливает особо.
Поезд стоит рядом с приземистым желтым зданием. Кажется, оно единственное здесь содержится в относительном порядке. В него по каким-то своим надобностям заходят ехавшие с нами рабочие. За этим зданием видны остовы домов, покосившиеся сараи. Станция Пулозеро.
- Хороший поселок раньше был, человек пятьсот жило, - говорит Михаил Александрович, - и станция всегда открыта была. Заходи после рыбалки: грейся, чай пей. А сейчас - сиди на ветру, дожидайся поезда. Жителей здесь всего шесть человек осталось.
 Впрочем, сейчас он не расположен к пространным монологам. Чтобы цель "оправдать рыбалку" (то есть чтобы примерная стоимость наловленной рыбы превзошла расходы на дорогу, водку и еду) была достигнута, надо "шевелиться". Словечко, которое любит отец и которое я слышу сейчас от его товарища. Логика проста: чем быстрее придем на озеро и чем больше насверлим лунок, тем больше налимов будет лежать в рюкзаках на обратном пути.
Впрочем, сейчас он не расположен к пространным монологам. Чтобы цель "оправдать рыбалку" (то есть чтобы примерная стоимость наловленной рыбы превзошла расходы на дорогу, водку и еду) была достигнута, надо "шевелиться". Словечко, которое любит отец и которое я слышу сейчас от его товарища. Логика проста: чем быстрее придем на озеро и чем больше насверлим лунок, тем больше налимов будет лежать в рюкзаках на обратном пути.
Мы идем к озеру по проторенному снегоходом пути. Начинавшийся невзрачно день выпустил на волю мириады золотых искр. Они танцуют по нетронутой белизне снегов, путаются в чистой веселой хвое невысоких сосен и елочек. Кажется, что деревца эти, залитые солнцем, светятся изнутри.
- Эх, повезло с погодкой, - подмигиваю я Михаилу Александровичу, - люблю, чтобы мороз и солнце.
- Погоди, будет тебе везение, - в тон мне шутливо отвечает попутчик, - уже градусов 20 мороза есть. Под вечер все 30 будет. Только знай дрова в печку закидывай. Так и будем: полночи - я, полночи - ты.
Так вот всегда они с отцом безо-бидно подначивали друг друга во время своих лесных походов. Теперь как-то незаметно та же манера общения установилась и между нами.
Минут через 40 пути мы подходим к распахнутой на многие километры снежной пустыне Колозера. Ветер тут и там испещрил затвердевший наст причудливыми узорами, от которых веет чем-то первозданно диким, безлюдным.
- У тебя 15 минут на лирику, можешь сходить вон туда, пофотографировать, - показывает Михаил Александрович на густо синеющую невдалеке полоску воды.
Я охотно отправляюсь туда, где берет свое начало главная река Кольского края. По сей день, увидев из окна вагона кипучую Колу, я чувствую, что возвращаюсь на родину. Много воды было выпито из этой красивой могучей реки, но никогда еще не доводилось мне бывать на месте ее зарождения.
Кола начинается не с зыбких, медленно свивающихся в водное полотно ручейков, как это обычно бывает в средней полосе. Она вытекает из озера состоявшейся рекой. И хотя здесь она только начинает свой неукротимый разбег к Кольскому заливу, течет плавно, еще не стряхнув с себя озерную задумчивость, есть уже в ней сила, совладать с которой не может даже двадцатиградусный мороз. Лед лишь кое-где у берегов сероватой, усыпанной снежными горошинами пленкой затягивает устье Колы.
Тут и там на макушки выглядывающих из воды валунов нахлобучены пушистые шапки. Над медленно завивающимися струями поднимается тончайший пар. Я смотрю на морозные искры, которые, словно маленькие чудо-рыбы, сверкают между подводных коричневатых камней, и мне почему-то чудится, что из воды улыбается близкая заполярная весна.
Первый налим
Сверкает, кружится ледяное крошево. Маленькие стальные зубы ледоруба с хрипом и шелестом прогрызают круглую дорогу к воде. И порой уже кажется, что само озеро кружится вокруг тебя. Жар распирает грудь, сдавливает дыхание, ударяет в лицо. Лунке на третьей я, забыв про мороз, сбрасываю с себя старую добротную дубленку.
Просверлить в полутораметровой ледяной толще надо десятки лунок. Трудная это работа. Труднее всего, когда, встав на колени, дергаешь ручку ледоруба, которая одна только и не ушла в лед. Кажется, из последних сил рывками вращаешь свое орудие, и, когда уже совсем невмочь, вдруг последняя ледяная перемычка проваливается под твоим нажимом. И мгновенно пробуренная пустота во льду заполняется черной ртутью озерной воды вперемешку со снежной кашей.
И вот есть несколько минут отдыха. Пока товарищ бурит другую лунку, достаешь из рюкзака незамысловатую донку, какой ловили, наверно, и сто лет назад, насаживаешь на грубый большой крючок мойву. Потом вычерпываешь из черного глазка во льду мокрый снег. Черпаком или просто покрасневшими на морозе руками. И тогда уже разматываешь, понемногу стравливаешь в воду снасть.
- Ну что, москвич, лунок 40 осилим с тобой? - слышится голос Михаила Александровича.
- Осилим, был бы толк, - из последних сил пытаясь придать шутливость своему голосу, отвечаю я.
- Ничего, вот увидишь, мы еще бурить не закончим, а уже пара-тройка налимов попадется. Без ухи сегодня не останемся. Давай-ка вон там луночку просверли, поближе к острову.
Я послушно берусь за ледоруб и сам себе удивляюсь, откуда берутся силы снова перемалывать ледяной панцирь озера.
НАША СПРАВКА
Алексей Полубота родился в 1975 году в Мурманске. В 2000 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Член Союза писателей России. Лауреат поэтической премии имени Баева - Подстаницкого (2001 г.), дипломант 5-го Московского международного конкурса поэзии "Золотое перо" (2008 г.), лауреат газеты "Литературная Россия" (2012 г.). Ответственный секретарь комиссии по литературному наследию Н. И. Тряпкина. Инициатор, а также один из организаторов Всероссийского фестиваля имени Николая Тряпкина "Неизбывный вертоград". Автор поэтического сборника "Время года - любовь" (2010 г., Мурманск). Стихи, рассказы, очерки, сказки печатались в российских журналах. Работал специальным корреспондентом газеты "Труд", обозревателем "Литературной газеты". В настоящее время - обозреватель портала "Свободная пресса".
По дороге на берег мы со знакомым всякому рыбаку нетерпением проверяем наши донки. Погода для клева налима стоит самая подходящая, морозная. Однако кто их предугадает, рыбьи капризы… На тех донках, что ставили последними, ничего не попалось. Некоторые лунки, как полузакрытые глаза, уже подернулись тонкой пленкой льда и слегка присыпаны поземкой. Мне вспоминается рассказ отца, как однажды они просверлили на этом озере 80 лунок и не поймали за сутки ни одного налима.
- Ну-ка иди сюда, почувствуй рыбину, - зовет меня Михаил Александрович.
Он, видимо, считает, что первого налима извлечь на лед должен я, московский гость. Я снова слушаюсь его, подхожу к "сработавшей" лунке, выбираю ожившую туго пульсирующую снасть. С полминуты проходит, и вот он, первый наш трофей, с килограмм примерно весом, по-змеиному извивается на снежном насте.
Вообще-то налим никогда не относился к завидной добыче для северных рыбаков. Многие здесь считали и считают его сорной рыбой (хотя мясо его по вкусу мало чем уступает треске). Нередко и мы с отцом оставляли его на съедение чайкам да воронам, вырезая лишь лакомую печень. Да и красавцем налима не назовешь. Но сейчас на сахарно искрящемся снегу эта пятнистая зеленовато-коричневая рыба кажется мне настоящим произведением природы.
Окончание следует.