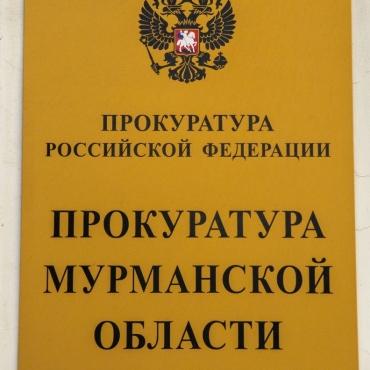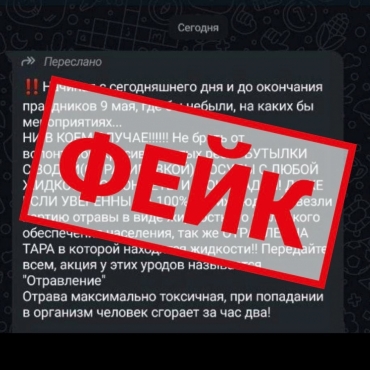Читатели «Вечерки» разных лет рассказывают о родном городе
Кажется, нет ничего дороже для Мурманска, чем сотни, тысячи затейливых и бесхитростных строчек о любви к нему. Авторами этих строчек стали мурманчане, читатели «Вечерки», которые на протяжении многих лет рассказывали на страницах газеты о любимой арктической столице.
Вот кажется, что ни напиши о Мурманске, все давно сказано. И вместе с тем все ново. Ведь, наверное, каждый, кто живет в этом городе на краю земли, любит его по-своему и умеет разглядеть в его облике свои милые черты.
В преддверии дня рождения Мурманска «Вечерка» публикует серию лирических зарисовок о городе и горожанах, влюбившихся когда-то в этот северный край и нашедших здесь свою судьбу. Кого-то из них уже нет в живых, но на страницах городской газеты они живут и вновь рассказывают о родном Мурманске, в котором родились, росли, учились, трудились, который восстанавливали из руин после войны, строили, благоустраивали. И любили.
Мечтательница тетя Настя
Галину Тихомирову судьба забросила в Мурманск в 1950 году. После окончания Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена она по назначению Мурманского облоно попала в нагорновскую семилетнюю школу. С тех пор и дороги ее сердцу южные кварталы.
«Поселок Старый Нагорный еще называли Арнольдовка, добраться сюда из Мурманска можно было только на электричке, – рассказывает она. – Ехали до остановки «Фадеев Ручей». А там часть пассажиров шла в сторону поселков Фадеевского «Шанхая» и Фадеева Ручья, а часть – в сторону Старого Нагорного. У края тропинки нас встречали землянки, в которых жили офицеры с семьями. Эти офицеры прошли всю войну с Германией, Японией.
Большая часть землянки находилась в земле, стены были оштукатурены, свет проникал через узкое окошко под потолком. Я еще с одной учительницей жила в доме у чудесного человека Анастасии Бочковой, попросту – тети Насти.
Многие в поселке держали живность. У тети Насти была бодливая коза. Чтобы пройти в дом или выйти из него, нужно было сначала козу задобрить – дать кусочек хлеба, пучок сена или травы, а потом схватить за рога, пригнуть к земле. Только после этого можно было юркнуть в дом или бежать в школу на уроки.
Дом у тети Насти был небольшой, состоящий из одной комнаты, которую перегораживала и делила на две части плита-печка. В одной части была кухня, там за занавеской стояла тети Настина кровать. Еще там помещались маленький стол, табурет и бочка с ключевой водой, которая тоже выполняла роль табурета.
За нашим домом стояли барак, конюшня военных и далее – наша деревянная нагорновская школа, прародительница 21-й школы и всех школ южных кварталов.
Во время окон в расписании мы выходили на улицу, шли на Светлый ручей, смотрели на панораму поселков, на Кольский залив, спускались к берегу. Пахло морем, вода была чистой, прозрачной…
Давно нет землянок, нет деревянных домиков-самостроев, нет тропинки, ведущей от остановки электрички в поселок Старый Нагорный. Да и самого поселка давно нет.
А я частенько вспоминаю и его, и нашу жизнь в нем, и милую малограмотную тетю Настю, оптимистку, патриотку своего любимого уголка – Старого Нагорного. Тетя Настя, мечтательница, убеждала когда-то нас, что тут будут причалы, сюда будут заходить корабли, появятся набережная и дорога, по которой пойдут автобусы. Но ни она, ни мы не могли представить даже, что на стыке границ Старого Нагорного и Фадеева Ручья будет построен мост! Через новый мост с восточного и западного берегов день и ночь идут автобусы, груженые машины, легковые авто. На месте землянок и бараков стоят современные многоэтажные со всеми удобствами дома.
Расти, мой Мурманск, мы всегда с тобой!».